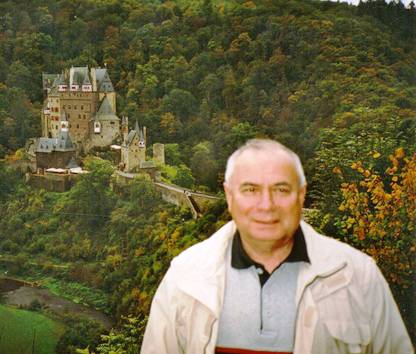
|
Владимир
Врубель
Официальный сайт
|
| Главная | Произведения | Сведения из первоисточников | Личное | Форум | Написать автору |
 Жестокость и милосердие Часть 157 Истории - героическая и постыдная Горчаков говорил своим ближайшим помощникам: «…если неприятель, вместо того, чтобы штурмовать, возобновит ужасное и продолжительное бомбардирование, я буду вынужден отдать ему город, ибо он истолчёт, как в ступке не только настоящий гарнизон, но и всю армию». Случилось как раз то, чего опасался князь. Последняя бомбардировка, начавшаяся 7 сентября, превзошла всё, что до неё испытали севастопольцы. Город и бастионы превратились в какой-то ад. Одна из ракет попала в баркас со ста пудами пороха. Он стоял у Графской пристани. Взрыв пороха уничтожил баркас и затопил другой. Каждый час бомбардировки защитники Малахова кургана ждали начала неприятельского штурма и теряли надежду не только отбить его, но и хотя бы несколько часов удержать позиции при такой потере людей и степени разрушения укреплений. Трудно себе представить, но это было: жёны матросов под обстрелом пришли на Малахов курган, чтобы принести воду своим раненым мужьям. Часть из них погибла ещё на подходе к кургану. Но вот что вообще уму не поддаётся: женщины привели с собой детей. Что с ними стало, удалось ли кому-то из них уйти оттуда живыми, неизвестно. Ни в одном достоверном источнике об этом нет ни слова. Мы можем только строить догадки. В конце концов Малахов курган пал. Его защитники сражались с отчаянием обречённых. В плен попали только тяжело раненые, остальные погибли с оружием в руках. После заключения мира командующий французскими войсками маршал Пелисье из уважения к доблести четырёх последних живых офицеров – защитников Малахова кургана, поручиков Юния, Игнатьева, Богдзевича и Данильченко, взятых ранеными в плен, обратился к Александру II с просьбой их наградить. Всех четверых наградили орденами Св. Георгия IV степени. Французы захватили ключевую позицию в обороне города. Теперь гарнизону оставались считанные часы для сопротивления. От укреплений ничего не осталось, их разбили неприятельские снаряды. Станки, на которых крепились орудийные стволы, вышли из строя от прямых попаданий ядер и бомб. Матросы-артиллеристы зарывали стволы под углом в землю и стреляли из них, лишь бы снаряд летел в сторону неприятеля. Людей не хватало. Задолго до того, ещё после третьей бомбардировки, чтобы удержать в строю раненых, тем, кто возвращался на бастионы, выдавали по 5 рублей унтер-офицерам и по 3 рубля рядовым. Но теперь измотанные до предела люди на бастионы не торопились. Защитников Севастополя ждали либо гибель, либо плен. История ещё раз повторилась спустя почти девяносто лет, в Великую Отечественную войну. Только на этот раз у Севастопольского гарнизона не было спасительного моста, отступать предстояло не на Северную сторону, а на Кавказ, куда мост не построишь. Десятки тысяч красноармейцев, краснофлотцев и командиров попали в фашистский плен. Командование осаждённого города эвакуировали, а красноармейцев, краснофлотцев и офицеров, среди которых было множество раненых, оставили без руководства, попросту бросили. Ну, а в первую оборону города защитники получили приказ генерала Горчакова перейти по мосту на другую сторону бухты. Это спасло их и от плена, и от гибели. Противник захватил севастопольские продовольственные склады. Оказалось, что у гарнизона оставалось запасов хлеба на двадцать дней, а солонины – на десять. Такие расчёты сделали английские и французские интенданты, выяснив, что по нормам для защитников города, чтобы они могли сражаться, полагалось в день восемьсот граммов хлеба и сто двадцать граммов солонины. Но это в теории, а практически солдаты и матросы питались тюрей – толчеными сухарями, размешанными в солёном кипятке. Чтобы неприятель ничего не заподозрил, при отступлении на каждом бастионе оставили прикрытие из добровольцев, которые периодически постреливали из пушек, чтобы поддерживать видимость боевой деятельности. Другая группа готовила к взрыву пороховые погреба. К погребам подтащили уцелевшие орудия, чтобы уничтожить их при взрыве. Но обмануть противника не удалось. Англичане и французы поняли, что гарнизон уходит на Северную сторону. Тем не менее входить в город союзники не торопились, опасались возможных потерь при взрывах мин. Но они заблуждались, никто мин не закладывал. На подготовленных к подрыву бастионах остались тяжелораненые и умирающие солдаты и матросы. Их не стали перевозить на Северную сторону, а просто оставили там, где они сражались. Это одна из самых трагических страниц истории обороны Севастополя и одна из самых постыдных. В послевоенной печати по этому поводу шла полемика, признавать такую вещь не хотелось, чего уж тут хорошего! Но так было. Хочется думать, что, останься в живых хоть один из трёх похороненных рядом с Лазаревым адмиралов, он бы не допустил такого позора. В последние дни жизни Нахимов отдал распоряжение перевезти на подводах книги из Морской библиотеки в Николаев. Его приказание выполнили. Так неужели бы он не позаботился о людях? Многострадальную севастопольскую Морскую библиотеку эвакуировали из осаждённого города дважды: в Крымскую войну в Николаев, а в Великую Отечественную войну – в Поти. Подожжённое здание Морской библиотеки послужило сигналом для поджога последних уцелевших в городе домов. Основная эвакуация населения и войск началась поздно вечером 28 августа. Следующая страница |