Орлов
понимал, чем рискует, если поднимется международный скандал, понимал и
Завойко, посылая его на столь опасное дело, потому и хотел сохранить
всё в глубокой тайне.
Секретная экспедиция Орлова заняла несколько месяцев. Вернувшись, он
доложил Завойко, что на баре Амура глубина составляет от 8 до 9 футов,
длительность навигации в лимане не превышает трёх месяцев.
За Амуром до Кореи крупных оседлых поселений нет, кочуют представители
разных местных народов, китайцы, корейцы, тунгусы, якуты, которые
промышляют зверя, копают коренья для торговли с китайцами и ничьей
государственной власти над собой не признают.
На Сахалине и в устье Амура кочуют гиляки – рослые и крепкие
на
вид люди. Когда вскрываются реки, по ним спускаются китайцы и маньчжуры
и меняют у местных жителей на меха, коренья и панты порох,
водку
и другие товары. Всё выменянное у китайцев незамедлительно пропивается,
кроме жизненно необходимого пороха.
По докладу Орлова Завойко пришёл к выводу, что ставить вопрос о
переносе фактории из Охотска на Амур нецелесообразно: судам с большой
осадкой в реку не войти – и окончательно остановился на Аяне.
В
то же время он считал, что нужно искать незамерзающую гавань южнее
Амура.
Материалы с результатами экспедиции на Амур и в Приморье,
подготовленные Орловым, Завойко отправил секретной почтой в Петербург,
главному правлению компании.
Ответа он не получил.
Выводы Орлова, о том, что китайцев в устье Амура нет, а живущие там
народности не зависимы от Китая, подтверждали сведения, которые ещё в
1831 году собрал капитан корпуса флотских штурманов Козьмин,
занимавшийся описью Шантарских островов и части Охотского побережья.
История присоединения к России Амура, Сахалина и Приморья –
это
подвиг людей, перенесших неслыханные лишения, борьба честолюбий,
многоходовые интриги тех, кто дальше Петербурга не выезжал, но зато
вершил всеми судьбами.
В тот год, когда Орлов обследовал водный путь из Аяна, на юго-восточное
побережье Охотского моря направили экспедицию двадцатидевятилетнего
сотрудника академии наук А. Миддендорфа.
Почему-то во всех исторических трудах её называют экспедицией академика
Миддендорфа, хотя он им тогда не был.
Этот молодой человек по возвращении доложил, что прошёл вдоль границы с
Китаем, обозначенной грудами камней конической формы. По его отчёту
выходило, что Амур и Приморье относились к владениям соседнего
государства. Копия отчёта поступила в Министерство иностранных дел. Там
решили, что Амур лучше оставить в покое.
В 1845 году последовало высочайшее разрешение Орлову вновь поступить на
службу в Российско-американскую компанию. Его произвели в самый низший,
14-й класс. Добился этого Завойко, упорно хлопотавший за моряка. Тогда
же был официально закреплён перевод Охотской фактории в Аян.
В 1846 году по ходатайству Завойко, поддержанному правлением компании,
Орлов получил полное прощение. «За усердие по
службе» его
произвели 14 мая 1847 года в коллежские регистраторы, а позже (это
случилось в 1850 году) переименовали в прапорщика корпуса флотских
штурманов.
Амурская экспедиция
И всё же Амур продолжал занимать умы многих людей, в том числе и на
высоких государственных постах.
В 1846 году по заданию правительства Российско-американская компания
приняла на себя все расходы по секретной разведывательной экспедиции на
компанейском бриге «Константин» под командованием
подпоручика корпуса флотских штурманов Александр Михайлович Гаврилова.
Экспедицию направили из Ново-Архангельска для исследования устья Амура.
Гаврилов осмотрел часть амурского лимана и сделал промеры северного
фарватера входа в реку.
Полученные результаты оптимизма не внушали – везде оказались
небольшие глубины. Всех участников экспедиции наградили, Гаврилов
получил премию в 1500 рублей. Доложили царю, и тот согласился, что Амур
– бесполезная для России река.
Однако так думали не все. Капитан-лейтенант Геннадий Иванович
Невельской был глубоко убеждён, правда, из чисто умозрительных
соображений, что Амур с моря доступен для морских судов. Ими он
поделился с вновь назначенным генерал-губернатором Восточной Сибири
Николаем Николаевичем Муравьёвым.
Тот выслушал капитан-лейтенанта с большим интересом. Генерал
внимательно изучил всю историю вопроса, и то, о чём говорил моряк,
совпадало с его собственными мыслями, а главное, с желаниями.
Выгоды от водного пути при сибирском бездорожье переоценить было
невозможно. Он поддержал Невельского, назначенного командиром небольшого
транспорта «Байкал», которому предстоял путь на
Камчатку, и
пообещал получить разрешение на обследование устья Амура.
Невельской планировал сдать в Петропавловске груз и до конца навигации
успеть исследовать устье Амура.
Завойко утверждал, что Невельской знал о плавании Гаврилова, был знаком
и с журналом и картой экспедиции.
Однако Невельской впоследствии это категорически
отрицал. Но вот за что точно можно
ручаться: ни
Муравьёв, ни Невельской не знали о тайной экспедиции Орлова.
Правление компании, прослышав, что для обследования Амура требуется
личное разрешение царя, спрятало от греха подальше все присланные
Завойко материалы.
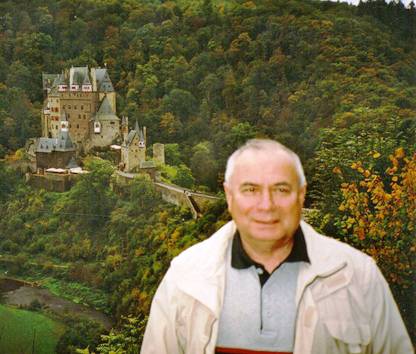
|
Владимир
Врубель
Официальный сайт
|
| Главная | Произведения | Сведения из первоисточников | Личное | Форум | Написать автору |
|
Рыцари в морских мундирах *** Рецензии |
