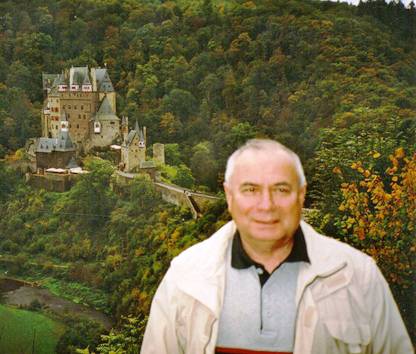За
несколько лет до появления судов Путятина в этих краях работала
секретная экспедиция Геннадия Невельского, которая тихо, без шума,
присоединила к Российской империи огромную территорию на Дальнем
Востоке.
Земля эта никому не принадлежала. А вообще-то, что значит никому? На
ней веками жили небольшие народности, но когда и какая из великих
держав принимала такие мелочи во внимание?
Селения аборигенов считались чем-то вроде части местного пейзажа, а
мнение их обитателей по поводу пришельцев последних меньше всего
интересовало. Разумеется, если не происходили вооружённые столкновения.
Невельской имел указания действовать с умом и стараться поддерживать с
местным населением добрососедские отношения. Николай I сурово
предупредил генерал-губернатора Восточной Сибири о том, чтобы на
востоке не пахло порохом.
России вполне хватало военных действий в Европе, чтобы ещё затевать
ссору с восточными соседями.
Перед плаванием Римский-Корсаков получил под расписку в Кронштадте
комплект секретных карт, составленных Амурской экспедицией. Карты
хранились в особом тяжелом футляре с залитым свинцом дном.
Он лично отвечал за то, чтобы в случае угрозы захвата шхуны
противником, карты были выброшены в футляре за борт.
Дело в том, что места, куда направлялась шхуна, с лёгкой руки таких
знаменитостей как Лаперуз, Броутон и Крузенштерн, считались
недоступными с моря из-за многочисленных отмелей, а Сахалин считали
из-за них не островом, а полуостровом. Так всё и значилось на картах
мира.
Открытия Амурской экспедиции Россия хранила в глубокой тайне и, как
показали дальнейшие события, не зря: во время Крымской (Восточной)
войны английские и французские суда не решились войти в Татарский
пролив и Амурский лиман.
Там русская эскадра и отсиделась, пока не закончились боевые действия.
Карты и описи экспедиции Невельского составлялись в крайней спешке и в
очень тяжелых условиях, поэтому требовали тщательной проверки. Плавание
«Востока» по Татарскому проливу было рискованным.
Случись что – помощи ждать неоткуда. Не повезло и с погодой:
густые постоянные туманы висели над проливом, а якорные стоянки были
скверные или вообще отсутствовали.
Сначала Воин Андреевич записывал, сколько раз шхуна садилась на мель,
но после тридцатого случая плюнул, надоело. Снимать судно с мели
– работа, которой завидовать не станешь.
Экипаж измучился до предела. А командир умудрялся каждый вечер садиться
за стол и вести подробнейший дневник. Отрывки из него впоследствии были
опубликованы в «Морском сборнике».
При осмотре берегов Сахалина моряки познакомились с представителями
населявших его народностей: айнами, нивхами, гиляками. Японцы бывали на
острове только наездами.
В советское время было принято писать, что появление русских, в отличие
от японцев, у местных жителей вызывало только бурный восторг.
Римский-Корсаков в дневнике отмечал, что аборигены принимали их весьма
сдержанно.